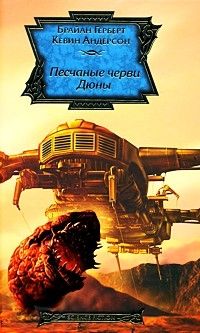Молодые люди рядом с Жаном подталкивали друг друга локтями. Сидевшая с ними женщина окликнула Жана. Тот вздрогнул, швырнул на стол деньги и пустился наутек. «Вот полоумный!» — бросила ему вслед женщина. Но Жан уже смешался с толпой, он, словно крыса, несся мимо витрин, в голове же у него тем временем рождался план дерзкого исследования, которое он озаглавит «Воля к власти и святость».
Иногда в витрине магазина мелькало его отражение, но Жан не узнавал себя. От плохого питания он осунулся и словно усох. Парижская пыль раздражала горло. Нужно было отказаться от сигарет. Он никогда раньше столько не дымил и в результате без конца сплевывал и кашлял. Часто кружилась голова, приходилось хвататься за фонари, чтобы не упасть. Лучше совсем не есть, решил Жан, чем после еды мучиться от колик в желудке. Может, в один прекрасный день его подберут в луже, как дохлую кошку? Тогда Ноэми станет свободной… Такие мысли посещали его в кинотеатре, куда он забредал, привлеченный не столько самим фильмом, сколько нескончаемой музыкой. Часто, в горячке валясь с ног от усталости, он заходил в баню. Ситцевая занавеска загораживала свет, из кранов капало, и тело было словно чужое. Столь убогим местом пребывания Жану приходилось довольствоваться лишь потому, что, кроме Мадлен, стоявшей на пути из гостиницы в кафе «Де ля Пэ», он долго не знал в Париже ни одной церкви. Но как-то раз, выбрав другой маршрут, Жан увидел Сен-Рош, и с тех пор эта сумрачная церковь стала для него ежедневным пристанищем. Здесь, в храме на перекрестке улиц огромного города, пахло так же, как в родной церквушке в его богом забытой дыре. Порога библиотеки он так ни разу и не переступил.
Так, пожалуй, он и жил бы тут до самой смерти, если бы однажды кюре в своем письме самым настоятельным образом не призвал его вернуться под отчий кров, хотя, как понял Жан, ни с отцом, ни с Ноэми ничего плохого не стряслось. С тяжелым сердцем Жан сел в вагон с надписью «Ирун», в экспресс, который столь часто на его глазах медленно отходил от перрона, чтобы потом, набрав скорость, направиться на юго-запад.
Дома все было по-старому, письмо же к Жану кюре написал после исповеди Ноэми, на которой та призналась лишь в самых обычных, простительных прегрешениях. Однако она обратилась к своему наставнику за духовной поддержкой в смущавших ее искушениях, хотя о том, какого рода эти искушения, она не распространялась.
Отъезд Жана поначалу отозвался в Ноэми благодатной усталостью, какая бывает при выздоровлении. Одиночество приносило ей неизбывное наслаждение. Она жила расслабившись, в свое удовольствие. Неспособная разобраться в собственных чувствах, Ноэми все же понимала, что изменилась, и несмотря на то, что вела по-прежнему жизнь молодой девушки, ею, по сути, уже не была. Отвращение препятствовало рождению в ней женщины, но та, расцветая сама собой, таинственным образом заявляла о своих правах. Ноэми с тревогой отмечала, что прежнего покоя в ее душе нет, что ее дремлющее сердце не в ладах с пробудившейся плотью. Ее существо словно разрывалось, тело не желало забывать того, что с ним приключилось.
Единственным чтением молодой женщины был молитвенник, людей же она сторонилась, так как, несмотря на бедность, была благородного происхождения, поэтому ни романы, ни близкие друзья не могли просветить ее по поводу того, что совершалось в ней самой. Но тут провидению угодно было послать ей нового знакомого.
Стоял март, солнечные блики играли в лужах на площади. Жером Пелуер почивал после обеда, весь дом замер в ожидании, не скрипнула ни одна половица. Подобно всем женщинам в городке, Ноэми много шила. Вот и в этот раз она сидела со своим шитьем на первом этаже у окна с полураскрытыми ставнями. На столе перед ней лежало белье, требовавшее починки. Вдруг до нее донесся шум колес, и она увидела, как в нескольких шагах от окна остановилась двуколка. Молодой человек с поводьями в руках оглядывался по сторонам, ища, кого спросить, однако на улице не было ни души. Когда Ноэми из любопытства открыла пошире ставни, незнакомец повернул голову и, сняв шляпу, спросил, где живет доктор Пьёшон. Ноэми ответила, мужчина поблагодарил и, тронув хлыстом круп лошади, двинулся с места. Ноэми вернулась к шитью и весь день работала иглой, особо и не думая о незнакомце, но его лицо то и дело само всплывало перед глазами. На следующий день в тот же час он снова проехал мимо ее окон, но на этот раз не остановился. Однако перед домом Пелуеров он попридержал лошадь, поглядел на закрытые ставни дома Ноэми и на всякий случай поклонился. За ужином господин Жером рассказал со слов кюре, что Пьёшону-младшему становится все хуже и хуже, и его отец послал за молодым врачом из супрефектуры, о методах лечения которого очень хорошо отзывались: он заставлял больных туберкулезом принимать большие дозы йодной настойки — по несколько сотен капель, разбавленных водой. Господин Жером сомневался, сможет ли желудок больного выдержать такое количество йода. Молодой доктор приезжал каждый день, и каждый день его экипаж замедлял ход у дома Пелуеров, однако Ноэми ставни не открывала. Заметив в окне неясную тень, — самой молодой женщины он не видел, — доктор каждый раз кланялся.
В городе с интересом следили за лечением — все больные туберкулезом в кантоне глотали йодную настойку. Утверждали, что дела Пьёшона-младшего пошли на поправку.
Весна в этом году была ранняя, конец марта стоял теплый, и люди постепенно оживали. Как-то перед сном Ноэми разделась у открытого окна. Счастливая и печальная, она облокотилась на подоконник, спать не хотелось. Из вечернего мрака в результате какого-то таинственного сцепления мыслей выплыло столь поразившее ее лицо молодого человека, и Ноэми впервые сознательно задержала на нем свой мысленный взор. Коль скоро молодой человек каждый раз приветствует ее, не зная даже, видит она его или нет, не приличнее ли было бы завтра раздвинуть ставни и ответить на приветствие? Решив так именно и сделать, Ноэми неожиданно испытала такой прилив нежности, что совсем забыла о сне. Его образ становился все отчетливее: черные вьющиеся волосы — она обратила на них внимание, когда незнакомец приподнимал шляпу, плотные красные губы, короткая бородка, спортивный костюм, в кармане которого сверкала авторучка, мягкая тюсоровая рубашка с открытым воротом — галстук доктор не носил.
Жившая чувствами, Ноэми была приучена прислушиваться к голосу своей совести, и потому она сразу насторожилась. Первый тревожный звонок прозвучал, когда она молилась. Каждую молитву приходилось начинать заново: между Богом и ней улыбалось смуглое лицо молодого человека. Это лицо преследовало Ноэми и когда она легла, и проснувшись, еще под впечатлением сна, она первым долгом подумала, что скоро его увидит. На утренней мессе она сидела, уткнувшись лицом в ладони. Когда во время сиесты экипаж замедлил ход перед домом Пелуеров, все ставни первого этажа были наглухо закрыты.
Именно в эти дни добровольный парижский изгнанник стал получать столь удивлявшие его письма, где Ноэми говорила: «Я скучаю по тебе…» Ноэми теперь сидела в темной комнате и ждала, когда проедет экипаж. Только после этого она приоткрывала ставни и возвращалась к работе. Но как-то раз ей вдруг подумалось, что излишняя щепетильность тоже грех. «Вбила себе в голову…» Ноэми решила раз и навсегда: она выглянет на улицу и ответит на приветствие доктора. Вот ей почудился стук колес, и рука потянулась к оконной задвижке, но нет… В этот день впервые за последние две недели врач не приехал.
В час, когда господин Жером принимал валерьянку, Ноэми поднялась к свекру и, не удержавшись, поведала тому, что молодого доктора сегодня у Пьёшонов не было. Оказалось, что господин Жером и сам это знал: у Пьёшона-младшего случился рецидив, он перестал переносить йод. Если верить доктору, его без конца рвало кровью. Весна для туберкулезников время опасное. Ходили упорные слухи, что доктор Пьёшон высказал своему коллеге немало резких слов, и тот больше не осмеливался появляться в городке. Ноэми обсудила дела с пришедшим арендатором, потом помогла Кадетте сложить выстиранное белье. В шесть отправилась в церковь, оттуда, как обычно, к родителям. После ужина, сославшись на головную боль, уединилась у себя в комнате.
Теперь она вела более деятельную жизнь, события последних дней принесли свои плоды. Одевшись по-праздничному, она посетила знакомых дам — в городке было заведено раз в год церемонно обмениваться визитами. Побывала Ноэми и у арендаторов. Ей нравилось колесить по разбитым лесным дорогам. Лошадью правил внук Кадетты. Заросли сухого папоротника расцвечивались желтыми пятнами утесника. На дубах трепетали старые листья, до поры до времени противясь горячему дыханию южного ветра. Чистое круглое зеркало лагуны отражало вершины и вытянутые стволы сосен, небесную лазурь. На соснах, росших в несметном количестве, через свежие раны проступала смола, распространяя благоухание по всей округе. Куковали кукушки, напоминая о прежних веснах. На ухабах коляска подпрыгивала, внука Кадетты бросало к Ноэми, и молодые люди смеялись как дети. На следующий день Ноэми пожаловалась на усталость и попросила управляющего объехать оставшихся арендаторов. После этого Ноэми вплоть до дня приезда ее мужа видели только на мессе.
![Франсуа Мориак - Том 1 [Собрание сочинений в 3 томах]](https://cdn.my-library.info/books/137833/137833.jpg)
![Франсуа Мориак - Том 3 [Собрание сочинений в 3 томах]](https://cdn.my-library.info/books/135894/135894.jpg)
![Франсуа Мориак - Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах]](https://cdn.my-library.info/books/133897/133897.jpg)